Роман «Мы» Евгения Замятина первым открывает в отечественной литературе жанр антиутопий. Книга, показывающая читателю политическое и социальное устройство будущего, в одночасье оказалась под запретом советской цензуры. Бытует мнение, что произошло это из-за того, что советский режим, в принципе, не переваривал литературу подобного жанра.
Но все не так однозначно, учитывая, что антиутопию «Железная пята» Джека Лондона можно было без проблем отыскать на книжных прилавках . А опальный писатель состоял в членах Союза писателей СССР. Попробуем разобраться в этих противоречиях, проследив за судьбой Замятина и проанализировав основные особенности его романа.
Корабли и революция
Евгений Замятин родился в городке Лебедянь Тамбовской губернии, Отец был церковным служителем, а мать — пианисткой. Учеба в гимназии была завершена с золотой медалью. Далее образование продолжилось в стенах Санкт-Петербургского политехнического института на факультете кораблестроения.
В студенческие годы Замятин увлекся социалистическими взглядами и в 1905 году примкнул к фракции большевиков российских социал-демократов (РСДРП). В результате чего начал принимать активное участие в жизни революционной молодежи. А в 1905 году и вовсе подвергся аресту за революционную деятельность, но вскоре был выпущен из под стражи.
В июне этого же года юный революционер становится свидетелем знаменитого восстания матросов на броненосце «Потёмкин», его вновь подвергают аресту и высылают в родную Лебедянь, однако вскоре Замятин таки вернулся в Санкт-Петербург.
- В июне 1905 г. на броненосце, находившемся на рейде недалеко от Одессы, произошло восстание матросов. Поводом для восстания стал приказ старшего офицера корабля о расстреле матросов, отказавшихся есть борщ из протухшего мяса. Возмущенные матросы подняли оружие на офицеров. Семь человек были убиты на месте. Затем скорый суд приговорил к смерти командира и корабельного врача. Подавляющее большинство кораблей Черноморской эскадры не поддержали мятежный экипаж. Броненосец был блокирован, но сумел прорваться в открытое море. Не имея запасов угля и продовольствия, экипаж корабля был вынужден принять решение уйти к румынским берегам и сдаться властям Румынии.
Кадр из фильма С. Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин» (1925)
После окончания института занимался преподаванием на кораблестроительном факультете и параллельно осваивал литературное ремесло. В 1908 году в журнале «Образование» был напечатан первый рассказ Замятина «Один», в 1911 году в свет вышла первая повесть «Уездное». Дебютную повесть положительно отметил Максим Горький в письмах супруге, сравнивая её со своей повестью «Городок Окуров»:
«Прочитай “Уездное” Замятина, получишь удовольствие»«Этот “Городок Окуров” — вещь, написанная по-русски, с тоскою, с криком, с подавляющим преобладанием содержания над формой».
В годы Первой мировой войны писателя вновь сослали, но уже в Карелию, за антивоенную повесть «На куличках». В марте 1916 года Замятин откомандирован в Англию, как представитель заказчика по строительству ледокола «Святой Александр Невский», после октябрьской революции получивший название «Ленин». Социалистическую революцию писатель принял с большими надеждами. Под её влиянием была написана целая масса произведений: «Север», «Землемер», «Ловец человеков» и др.
«Братья Серапионовы», эсеры
Образовательный и культурный подъем нового социалистического государства дал возможность писателю организовать в Доме Искусств Петрограда класс художественной прозы. В последствии из этого кружка, под началом Замятина, сформировалась группа литераторов, позднее именуемая «Братья Серапионовы». Её костяк составили молодые талантливые писатели Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Всеволод Иванов и другие.
Слева направо: К.Федин, М. Слонимский, Н. Тихонов, Е. Полонская, М. Зощенко, Н. Никитин, И. Груздев, В. Каверин
Само название заимствовано из цикла новелл немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана «Серапионовы братья», где группа друзей-единомышленников использовала это имя в честь христианского отшельника IV века Серапиона.
Участники настаивали на независимости искусства от политики, что вступало в противоречие с набиравшим силу требованием «литературы для пролетариата». Критики из пролетарских объединений обвиняли Серапионовых в «буржуазном индивидуализме», а Замятина — в «контрреволюционном эстетизме». После 1925 года группа прекратила своё существование. Часть писателей (Вс. Иванов, Н. Тихонов) позднее влились в официальную советскую литературу, другая же (М. Зощенко, В. Каверин) продолжила развивать собственную творческую манеру, периодически сталкиваясь с цензурой.
К началу 1920-х годов Замятин всё заметнее стал критиковать методы управления большевиков: появление цензуры, подавление свободы творчества и нарастающую бюрократизацию. Параллельно росло напряжение из-за связей писателя с эсерами (социалистами-революционерами). Хотя Замятин формально не состоял в партии, его ранние симпатии к эсеровским идеалам (акцент на крестьянство, критика диктатуры пролетариата) и дружба с бывшими эсерами, вроде писателя Бориса Пильняка, делали его фигуру подозрительной.
Письмо Сталину, эмиграция
В 1918 году выходит повесть «Дракон», где писатель впервые критикует большевизм. После 1920 года вышли публикации «Арапы», «Пещера», в которых также в разной степени появлялась критика советской власти. Финальную точку в изоляции писателя поставил его роман «Мы». Роман, предсказывающий тоталитарное будущее, где индивидуальность подавляется, вызвал резкое неприятие советских властей. В СССР он был запрещён и впервые опубликован за границей в 1924 году. Несложно догадаться, писатель оказался под жёстким давлением, что повлекло исключение его из Союза писателей и запрета публикаций. В 1929 году давление на автора антиутопии достигло пика после выхода «Мы» на русском языке в Праге.
В 1931 году Замятин написал личное письмо Сталину с просьбой разрешить выезд из СССР, аргументируя это невозможностью работать в условиях цензуры.
Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания автор настоящего письма — обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою. Мое имя Вам, вероятно, известно. Для меня, как для писателя, именно смертным приговором является лишение возможности писать, <…>
Я ни в какой мере не хочу изображать из себя оскорбленную невинность. Я знаю, что в первые 3-4 года после революции среди прочего, написанного мною, были вещи, которые могли дать повод для нападок. Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой <…>
В советском кодексе следующей ступенью после смертного приговора является выселение преступника из пределов страны. Если я действительно преступник и заслуживаю кары, то все же, думаю, не такой тяжкой, как литературная смерть, и потому я прошу заменить этот приговор высылкой из пределов СССР — с правом для моей жены сопровождать меня <…>
Июнь, 1931 г.
/’Замятин Е. Сочинения, 1986. Т. 4. С. 310-316.»/
Благодаря заступничеству Горького в 1934 году писатель получил разрешение на эмиграцию. Он уехал в Париж, где и умер в 1937 году, так и не увидев свою главную книгу напечатанной на родине. «Мы» оставалась под запретом в СССР до 1988 года.
Роман «Мы»
В своей антиутопии Замятин изображает далёкое будущее. Всё человечество объединено в Единое государство, образовавшееся после Двухсотлетней войны. Деятельность людей строго регламентирована Скрижалью (свод правил). Поэтому человек в этом мире потерял свою уникальность и вместо имени ему присваивается индивидуальный номер. Единица общества именуется, как нумер.
Главный герой романа «Мы» мужчина под номером Д-509. От его имени в форме дневника (эпистолярный жанр) и ведется повествование о происходящих событиях. Д-509 выполняет обязанности инженера, работающего над проектом космического корабля «Интеграл».
Государство настолько сильно подавило свободу личности человека, что даже интимная жизнь граждан строго регламентирована.
Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом.А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел… Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.
Жизнь идёт своим чередом, Д-509 в отведенные часы встречается с девушкой О-90, либо ведёт философские беседы с поэтом R-13. Но всё меняется, когда инженер Интеграла знакомится с девушкой I-330. Она приглашает его в единственный уцелевший островок старого мира — в Древний Дом. После этой прогулки Д-509 начинает видеть сны. Но здоровые нумера не видят снов! С этого момента главный герой перестает себя чувствовать единым механизмом с государством.
Стиль написания романа «Мы» специфичен. Во-первых, Замятин внедрил в текст математические термины и тезисы (видимо для передачи стиля дневника инженера), что усложняет чтение. Во-вторых, развитие сюжета почти лишено динамики. И, наконец, правила игры, в которых существует утопический мир, раскрыты крайне незначительно. Если Оруэлл и Лондон сразу определяют всю сумму обстоятельств своих Вселенных («1984» и «Железная пята»), давая читателю объемную экспозицию с объяснением, что и откуда берется, то Замятин всё транслирует через мысли и диалоги довольно блеклых персонажей. Таким образом только после 1/3 книги вырисовывается хоть какой-то контур происходящего.
Вместе с тем, к автору романа накапливается ряд ключевых вопросов, которые возникают, когда пытаешься заострить своё читательской внимание на те или иные ключевые темы в произведении.
В первую очередь интересует процесс становления Единого Государства. Замятин мельком упоминает о какой то Двухсотлетней войне между городом и деревней, но не раскрывает ее сути и итогов. Вероятно, мы видим своеобразную отсылку к реальной проблеме первых лет советской власти, связанной с противоречиями между пролетариатом и крестьянством (даже Ленин предполагал, что большевистскую партию при определенных обстоятельствах может постичь раскол из-за этого коренного вопроса). Победившая сторона остается неназванной.
Некоторые полагают, что заостренная проблема отсутствия выбора и демократии делает «Мы» новаторским произведением. Ярким мазком Замятин рисует предсказуемость выборной системы в тоталитарных государствах:
Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.
Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, — ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионноклеточный организм
Но посмотрев в глубь исторических процессов, становится понятно, что предостережения Замятина не особо актуальны. Уже от Аристотеля мы знаем (трактат «Политика»), что выборы — институт не демократический. Выборы — институт олигархический. Влиятельные и богатые всегда сумеют выиграть, а у бедного не будет возможностей вести избирательную кампанию:
…в выборах участвуют непременно все, но избирают только из людей первого имущественного слоя, затем снова таким же образом из второго, далее — из третьего; <…>
При таком порядке выборов большинство, очевидно, составят люди, принадлежащие к высшим имущественным слоям, <…> Относительно же избрания должностных лиц нужно еще заметить, что, когда выборы происходят из намеченных заранее кандидатов, создается опасное, положение: если известное число лиц, даже и небольшое, захотят войти между собой в соглашение, то выборы всегда будут совершаться так, как они того пожелают.
Равенство между выборами и демократией поставили уже в Новое время, и это кажущееся равенство тоже нужно было в первую очередь для того, чтобы внушить массам, что у них есть демократия, хотя по факту это именно буржуазная демократия — т.е. демократия для буржуазии.
Замятин же пытается высмеять большевистские рабочие Советы — мол, и так ясно, кто победит. Но в реальных Советах, особенно тех, которые родились из революции 17-го года, демократия была представлена куда более полно, чем в буржуазных парламентах: побеждал наиболее авторитетный у рабочих/крестьян/солдат делегат, который выходил от самих рабочих/крестьян/солдат. И он при этом не переставал быть рабочим/крестьянином/солдатом.
Обратимся к знаменитым словам Владимира Ленина из фундаментальной работы «Государство и революция»:
Полная выборность, сменяемость в любое время всех без изъятия должностных лиц, сведение их жалованья к обычной «заработной плате рабочего», эти простые и «само собою понятные» демократические мероприятия, объединяя вполне интересы рабочих и большинства крестьян, служат в то же время мостиком, ведущим от капитализма к социализму. <…> парламентарии должны сами работать, сами исполнять свои законы, сами проверять то, что получается в жизни, сами отвечать непосредственно перед своими избирателями.
И далее также уместно будет вспомнить слова лидера большевиков об истории возникновения Советов (еще во времена Первой русской революции) в статье «К истории вопроса о диктатуре»:
…создание новых органов революционной власти, — Советы рабочих, солдатских, железнодорожных, крестьянских депутатов, новые сельские и городские власти и пр. и т. п. Эти органы создавались исключительно революционными слоями населения, они создавались вне всяких законов и норм всецело революционным путем, как продукт самобытного народного творчества, как проявление самодеятельности народа, избавившегося или избавляющегося от старых полицейских пут. Но сила, на которую опиралась и стремилась опереться эта новая власть, была не силой штыка, захваченного горсткой военных, не силой «участка», не силой денег, не силой каких бы то ни было прежних, установившихся учреждений. Ничего подобного. Ни оружия, ни денег, ни старых учреждений у новых органов новой власти не было. <…> На что же опиралась эта сила? Она опиралась на народную массу. Вот основное отличие этой новой власти от всех прежних органов старой власти. Те были органами власти меньшинства над народом, над массой рабочих и крестьян. Это были органы власти народа, рабочих и крестьян, над меньшинством, над горсткой полицейских насильников, над кучкой привилегированных дворян и чиновников. Таково отличие диктатуры над народом от диктатуры революционного народа. <…> Ничего скрытого, ничего тайного, никаких регламентов, никаких формальностей. Ты — рабочий человек? Ты хочешь бороться за избавление России от горстки полицейских насильников? Ты — наш товарищ. Выбирай своего депутата, сейчас же, немедленно; выбирай, как считаешь удобным, — мы охотно и радостно примем его в полноправные члены нашего Совета рабочих депутатов, Крестьянского комитета, Совета солдатских депутатов и пр. и т. п. Это — власть, открытая для всех, делающая все на виду у массы, доступная массе, исходящая непосредственно от массы, прямой и непосредственный орган народной массы и ее воли. — Такова была новая власть, или, вернее, ее зачатки.
Неудивительно, что советская критика отреагировала на творчество Замятина с большим неудовольствием, расценив «Мы» как контрреволюционный пассаж. Если сопоставить появление этого текста еще с обстоятельствами места и времени, то реакция станет еще более ясной: на дворе 1920-й год, еще не завершена Гражданская война, бои с белогвардейцами продолжаются на юге, востоке и даже севере страны. Революционная Россия напрягает все силы в борьбе за право строить новую жизнь. И вдруг — «Мы».
Между тем, в финальной части роман даже пытается вывести теорию о революции как бесконечном процессе в жизни человеческого общества:
— Да, революция! Почему же это нелепо?
— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша — это не ты, а я говорю, — наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому…
Насмешливый, острый треугольник бровей:
— Милый мой: ты — математик. Даже — больше: ты философ — от математики. Так вот: назови мне последнее число.
— То есть? Я… я не понимаю: какое — последнее?
— Ну — последнее, верхнее, самое большое.
— Но, I, — это же нелепо. Раз число чисел — бесконечно, какое же ты хочешь последнее?
— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо — чтобы дети спокойно спали по ночам…
В своих суждениях о революциях Замятин вновь высмеивает марксистов, а точнее большевиков.
Однако вновь автор вскрывает скорее собственное незнание и непонимание реального учения Маркса и Энгельса. По Марксу при достижении коммунизма на планете возможно установление такого человеческого способа хозяйствования, при котором революции будут уже не нужны, и это прямо проговаривается в одной из ключевых работ «Нищета философии»:
Только при таком порядке вещей, когда не будет больше классов и классового антагонизма, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями. А до тех пор накануне каждого всеобщего переустройства общества последним словом социальной науки всегда будет: «Битва или смерть; кровавая борьба или небытие. Такова неумолимая постановка вопроса»
При этом важно, чтобы коммунизм победил в мировом масштабе, а значит, во всех странах должен восторжествовать социализм, причем зашедший очень далеко. В свою очередь социализма можно добиться только революционным путем, потому что буржуазия никогда власти миром не отдает. Таким образом, получается, что когда полноценный социализм победит в последней капиталистической стране — это будет последняя революция именно в насильственном смысле. Дальше вместо них последуют социальные эволюции, происходящие мирным путем, при помощи науки, общественных взаимоотношений и т.д.
Из всего вышесказанного становится очевидным, почему антиутопия Замятина оказалась под запретом, а «Железная пята» расходилась массовыми тиражами по Советскому Союзу. Джек Лондон утверждал прогрессивную роль пролетарской революции, видел в ней единственное действенное средство против капиталистической системы, хищно пожирающей потенциал миллионов людей и объективно тормозящей развитие человечества, хоть и сумевшей развить производительные силы до небывалых высот — более того, американец за несколько десятилетий почувствовал, что капитализм в целях самозащиты способен перейти к самым людоедским формам вроде фашистских. Евгений Замятин выступил с насмешкой над попытками первого в мире рабочего государства прорваться в будущее и построить общество в интересах большинства трудящихся — и в условиях ожесточенной войны со всем капиталистическим миром (от белогвардейских формирований до иностранных интервентов) фактически сыграл на стороне последних, предложив врагам советского народа дополнительное идеологическое орудие.
«Мы» на экране
Кинематографические и телевизионные экраны несколько раз обращались к мотивам Замятина, т.к. антиутопии вообще дорогие гости аудиовизуальных искусств. Считается, что первой экранизацией стал телевизионный проект 1982-го года Войцеха Ясны в ФРГ. Однако комбинация малого бюджета и довольно провинциального уровня немецкого ТВ 80-х годов дает на выходе несколько «дешевое» впечатление.
«Мы», реж. Войцех Ясны
Другая экранизация стала громкой сразу по двум причинам: во-первых, это был продюсерский проект небезызвестного Сарика Андреасяна, который в массовом сознании давно уже занял почетное место рядом с Уве Боллом и Эдвардом Вудом в качестве одного из сомнительнейших режиссеров в истории; во-вторых, этот фильм не вышел на экраны, хотя и был отснят. Причины отмены релиза неизвестны.
«Мы», реж. Гамлет Дульян, продюсер Сарик Андреасян
Однако существовал проект, который почти наверняка был вдохновлен романом «Мы» Замятина, хотя официально это нигде не подтверждено. Речь идет о дебютном полнометражном фильме Джорджа Лукаса «THX 1138» (1971), созданном, в свою очередь, на основе студенческой короткометражки того же Лукаса «Электронный лабиринт: THX 1138 4EB». В этом антиутопическом фантастическом фильме есть многое из того, что можно вычитать у Замятина: сведенные к единому внешнему виду люди; тотальный контроль; строгая регламентация общественных взаимоотношений; буквенно-цифровые обозначения вместо нормальных человеческих имен. И реальное развитие сюжета начинается именно с того момента, когда мужчина TXH 1138 встречает женщину LUH 3417, и между ними возникает любовь. Впрочем, здесь нет «Интеграла» и многих других элементов. Поэтому «THX 1138» нельзя назвать экранизацией — но однозначно можно назвать фильмом, вдохновленным антиутопией Замятина.
«THX 1138», реж. Джордж Лукас
Несмотря на определенные недостатки, роман «Мы» остается актуальным и сегодня. Замятин поднимает важные вопросы о свободе личности и индивидуальности.. Через призму антиутопии заставляет читателя задуматься о ценности человеческой жизни и о том, как общественные системы могут подавлять личные стремления. Замятин первым в отечественной литературе заложил фундамент для развития жанра такого рода, что по праву делает его выдающемся пиcателем XX века. Его идеи были подхвачены последователями в литературе и кинематографии и продолжают вдохновлять новые поколения в развитии жанра антиутопии.


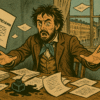
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.