Дух реваншизма и превосходство нации — неотъемлемая черта немецкого общественного сознания с приходом к власти нацистов. Но могла ли основная масса жителей Германии в пик гитлеровского триумфа подумать о том, что тяготы военных лишений и страданий обрушатся и на их головы? Об этом роман немецкого писателя Ремарка «Время жить и время умирать», изданного в 1954 году.
Мы уже вели речь о «Потерянном поколении» и биографических моментах жизни Эриха Марии Ремарка, когда более детально изучался роман «На западном фронте без перемен«, посвященный событиям Первой мировой войны. Теперь же речь пойдет о временах уже Второй мировой.
«Время жить и время умирать»
В этот раз Эрих Мария Ремарк забрасывает своего читателя в 1944 год. Уже позади переломная битва за Сталинград, и гитлеровская армия вынуждена стремительно отступать под натиском Красной Армии.
«Гул в ночи продолжался. Гул и вспышки на горизонте. Гребер посмотрел туда. Русские… Осенью 1941-го фюрер объявил, что им конец, и казалось, так оно и есть. Осенью 1942-го он твердил то же самое, и все еще казалось, что так оно и есть. Но грянуло необъяснимое – сперва под Москвой, потом в Сталинграде. Все неожиданно застопорилось. Прямо чертовщина какая-то. У русских вдруг опять появилась артиллерия. Начался гул на горизонте, который разметал все речи фюрера и уже не прекращался, а затем погнал перед собой немецкие дивизии, погнал обратно. Они не понимали, однако внезапно поползли слухи, что целые армейские корпуса отрезаны и сдались в плен, а вскоре каждый знал, что победы обернулись бегством. Бегством, как в Африке, когда до Каира было уже рукой подать.»
В такой обстановке сюжет фокусируется на рядовом немецком солдате — Эрнсте Гребере, который вместе со своими сослуживцами вынужден вести боевые действия в ужасающих условиях и порой выполнять не совсем гуманные приказы. Гребер истощен как физически, так и эмоционально. Война для него длится беспрерывно уже второй год. В самый разгар наступления советских войск Эрнст получает увольнительную и отправляется в свой родной город Верден, навестить родителей.
Вернувшись в родные кварталы, Гребер приходит в ужас — Верден практически разбомблен, дом превратился в руины, а семья вовсе пропала без вести. Обездоленному солдату остается лишь надеяться и продолжать поиски родных, наводя справки у местного населения. Судьба сводит его с девушкой Элизабет Крузе, дочерью осужденного и отправленного в концлагерь доктора. Вместе им суждено осознать в каком фатальном положении находится их страна.
Им приходится взаимодействовать со множеством персонажей, неоднородных по своему мировоззрению. Эрнсту в поисках его родителей помогает одноклассник Альфонс Биндинг, занимающий важный пост в нацисткой партии. Альфонс абсолютно бескорыстно оказывает помощь Греберу, но в тоже время спокойно пропускает рюмку водки с типом из Гестапо. А Элизабет вынуждена вести соседство с фрау Лизер, ярой фанатки Гитлера и строчащей налево и направо политические доносы.
Ремарк, как совесть нации
«Время жить и время умирать», как и другие произведения Ремарка, не отступает от антивоенной позиции и вскрывает ряд причин, побудивших к развязыванию мировой войны. По ходу развития событий Гребер встречает на своём пути разношерстную публику: солдаты СС, муниципальные служащие, представители рабочего класса и интеллигенции, партийные работники и даже беглые евреи. Кто-то из них еще верит в государственную пропаганду и продолжает продвигать идеи нацизма. А кто-то с ужасом осознает все сотворенные их государством злодеяния.
Ярким примером этого в романе служит диалог немецких офицеров, где с полной определенностью обозначается противоречивость нацистской пропаганды в отношении международной политики:
– Русские не арийцы, – вдруг сказал похожий на мышь человек, остролицый, с маленьким ртом. До сих пор он молчал.
Все воззрились на него.
– Тут ты ошибаешься, – отозвался лысый. – Арийцы они. Мы же с ними были союзниками.
– Недочеловеки они, большевистские недочеловеки. Никакие не арийцы. Так про них пишут.
– Ошибаешься. Поляки, чехи и французы – недочеловеки. Русских мы освобождаем от коммунистов. Они арийцы. За исключением коммунистов, понятно. Может, и не из лучших, не из господ, как мы. Обычные арийцы-работяги. Но истреблению не подлежат.
Мышь уперся:
– Они всегда были недочеловеками. Я точно знаю. Самые что ни на есть недочеловеки.
– Все давно изменилось. Как с японцами. Нынче и они тоже арийцы, с тех пор как стали нашими союзниками в войне. Желтые арийцы.
– Оба вы неправы, – пробасил невероятно волосатый мужчина. – Русские не были недочеловеками, пока мы с ними были союзниками. Зато теперь недочеловеки. Вот как обстоит дело.
И здесь к слову будет упомянуть, что волна нацизма возникла в Германии не на пустом месте. Это и унизительный Версальский договор, по которому страна потеряла часть своих территорий и все колонии. Выплата колоссальных репараций и ограничение в военной мощи. Дело довершила политическая дестабилизация — крах монархии и поражение революции 1918-го года привели к вакууму власти. А сохранившиеся военные элиты с имперскими замашками удачно принялись за взращивание у населения чувства обиды, культивируя образ «униженной нации».
Поэтому Ремарк открыто признает наличия духа реваншизма в своей стране, зародившегося после Первой мировой войны.
«По обе стороны от входа увидел мемориальные доски с именами погибших. Та, что справа, ему знакома – погибшие на Первой мировой. В дни партийных съездов ее всегда украшали еловыми лапами и дубовыми листьями, а Шиммель, директор, произносил перед нею пламенные речи об отмщении, Великой Германии и грядущем возмездии.»
«– Нет, Эрнст. Мы потеряли меру. Десять лет нас держали в изоляции – в изоляции ужасной, вопиющей, бесчеловечной и смехотворной заносчивости. Нас объявили расой господ, народом, которому другие должны служить как рабы. – Он горько засмеялся. – Раса господ… подчиняться каждому дураку, каждому шарлатану, каждому приказу, – при чем тут раса господ? Вот все это здесь – ответ. И, как всегда, бьет он больше по невинным, чем по виновным.»
Помимо антивоенной риторики роман Ремарка наделен проблемой нравственного выбора в условиях военного времени и тоталитаризма. К примеру, Гребер без зазрения совести может стащить парочку бутылок спиртного из местного ресторана и при этом поделиться сигаретой с заключенным.
Писатель со свойственной ему стилистикой показывает фронтовой быт с детальной четкостью. А ряд контрастов в повествовании — лирические воспоминания о довоенной жизни и пейзажи разрушенных городов, как метафора утраченных иллюзий еще больше погружает читателя в атмосферу безысходности.
Конечно, «Время жить и время умирать» изначально воспринимается, как анализ Ремарком важнейших тенденций, породивших мировой военный пожар, унесший миллионы людских жизней. Но является ли нацизм исключительно немецким явлением? Конечно же, нет! Помимо того, что реальная история знает аналогичные режимы в Италии (фашизм) и Испании (фалангизм), сама по себе смесь, состоящая из реваншизма, милитаризма и национализма при соответствующей структуре крупного капитала может рождать фашизоидные режимы практически в любой точке земного шара. Они могут отличаться по форме, могут использовать другую терминологию, но их политическая физиономия будет схожей.
К тому же современные новостные сводки показывают, что время может стереть из памяти нации даже самые гнусные преступления, а «переписывание» истории — всего лишь дело техники. Причем, играть с этой опасностью могут в том числе и те общества, которые на предыдущих исторических этапах фашизму (или иной форме правой реакции) противостояли. Для этого у капитала есть достаточно инструментов, а помощниками ему будут социальная пассивность, атомизация, идеалистические иллюзии. Можно задаться вопросом, ошибки ли это? К сожалению, совсем необязательно.
Но расплата всегда наступает. Не зря знаменитый немецкий драматург-коммунист Бертольд Брехт написал об антифашистском сопротивлении сценарий с очень ярким названием: «Палачи тоже умирают». И эта мысль подтверждается Ремарком в том числе через беседу бойца вермахта Гребера и его бывшего учителя по религии — профессора Польмана. Пусть этот отрывок послужит и финальной точкой в рассуждении на тему жизни и смерти в военное время.
Старик помолчал. Потом отошел к глобусу, стоявшему в углу, повернул его.
– Видите? Вот этот маленький кусочек мира – Германия. Его можно почти целиком накрыть большим пальцем. Очень маленький кусочек мира.
– Пожалуй. Но с этого кусочка мы завоевали огромную часть мира.
– Верно, часть. И завоевали… но не убедили.
– Пока нет. Но что, если бы мы сумели его удержать? Десять лет. Двадцать. Пятьдесят. Победы и успехи убеждают чертовски эффективно. Как мы видели в собственной стране.
– Мы не победили.
– Это не доказательство.
– Доказательство, – сказал Польман. – Очень веское. – Рука с толстыми жилами снова повернула глобус. – Мир… Мир не стоит на месте. Если собственная страна какое-то время приводит в отчаяние, нужно верить в мир. Возможно солнечное затмение, но не постоянная ночь. Не на этой планете. Нельзя облегчать себе жизнь и сразу отчаиваться. – Он отставил глобус. – Вы спрашиваете, осталось ли достаточно, чтобы начать заново. Церковь началась с нескольких рыбаков, нескольких верующих в катакомбах и уцелевших на аренах Рима.
– Да. А нацисты – с нескольких безработных фанатиков в мюнхенской пивной.
Польман улыбнулся:
– Вы правы. Но никогда еще не бывало тирании, которая продержалась бы долго. Человечество шло вперед не по гладкой дороге. Всегда толчками, рывками, с отступлениями и судорогами. Мы были слишком заносчивы, думали, что уже преодолели свое кровавое прошлое. Теперь мы знаем, что оглянуться не успели, как оно уже вновь нас настигло. – Он взял шляпу. – Мне пора идти.

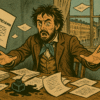

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.
Политика конфиденциальности.